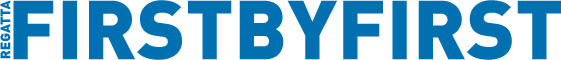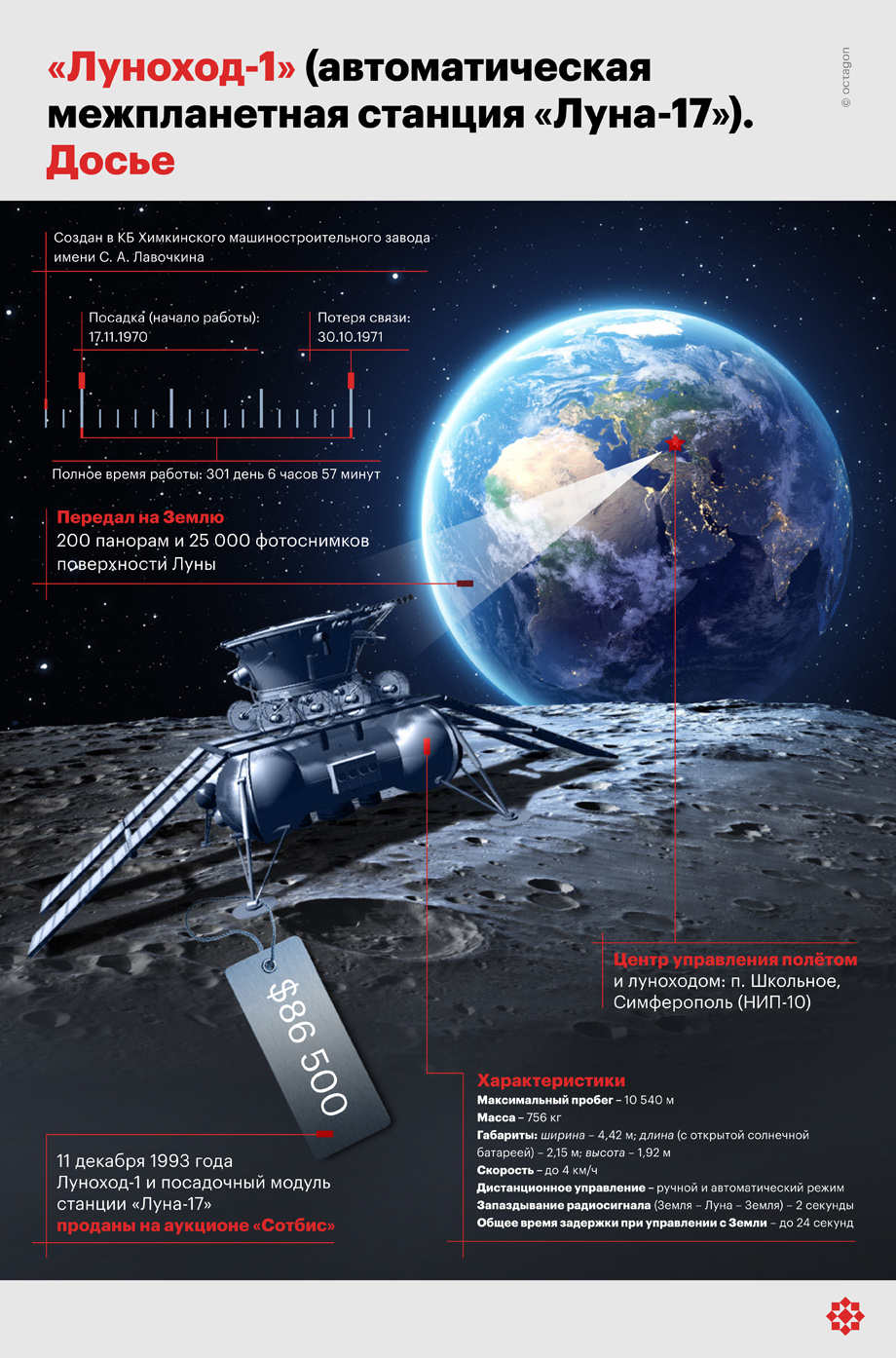День знаний.
1 сентября 1988 года мы с Максом первый раз решили отпраздновать День знаний. Абсолютно искренне, без школярского принуждения, в трезвом уме и здравой памяти. Макс к тому времени перешел на второй курс. Я поступил на первый. Будущее представлялось прекрасным и удивительным. Оно таким и было.
Ясным осенним днем, ровно в 16.00 мы встретились перед входом в кафе «Птица» на углу улицы Горького, справа от памятника Юрию Долгорукому с протянутой рукой. Макс дал усатому халдею на входе рубль, чтобы нас без очереди пустили за удобный четырехместный столик рядом с туалетом. Бессловесная тетка в практически белом халате и чепце походя шлепнула об стол между нами взлохмаченной папкой с меню и удалилась. Мы улыбнулись ей вслед. Макс не спеша достал из мягкой пачки Яву «явскую» и закурил.
У нас была детально проработанная концепция празднования. Мы собирались крепко нажраться. Не в смысле поесть, а в смысле «употребить», и именно по случаю дня знаний. Чтобы лучше училось в наступающем году, потому что, самое позднее, через шесть лет нам предстояло стать начинающими светилами советской науки.
Алкоголь в меню присутствовал в двух ипостасях: водка и портвейн. Не густо, но – что поделать! — наша родина вела бессмысленную борьбу с пьянством. Полторы бутылки водки ценились соответственно четырем бутылкам портвейна, но по количественному содержанию спирта, совокупному объему жидкости и вкусовым достоинствам портвейн имел решительное преимущество. Постигнув то, что в будущем станет называться соотношением «цена-качество», мы решили проблему выбора пойла и заказали все, что наличествовало в меню: лобио, салат столичный, черный хлеб и две порции цыплят табака.
До десяти часов вечера мы предавались винопитию и чревоугодию. Мы выедали скользких цыплят табака до основания, а затем заказывали новых, таких же упругих и костистых. Тридцать полновесных, неденоминированных рублей на двоих. Весь мир лежал у наших ног, нам были открыты все пути. Мы роскошествовали и не знали, что где-то, на страницах книги судеб уже есть запись о том, что грядущей зимой Макса первый раз выгонят из института в академотпуск…
Ровно год спустя мы встретились на том же самом месте в тот же час. Почти в том же самом месте и тот же час, говоря строго. То есть кафе опять называлось «Птица», и наши часы опять показывали 16.00, но планета, сделав полный оборот вокруг Солнца, совершила, чуть меньше трехсот шестидесяти пяти оборотов вокруг собственной оси. И мы оказались в совершенно ином месте вселенной. Все изменилось. Осень повеяла неустроенностью и будущими продуктовыми карточками. Двери кафе охранял другой, безусый халдей, очереди не было вообще, а перед памятником князю Долгорукому, прямо под его вытянутой рукой агрессивно настроенные старушки требовали у прохожих освобождения из тюрьмы какого-то русского шовиниста еврейского происхождения с грузинской фамилией и собирали для мученика великоросской идеи пожертвования в трехлитровую стеклянную банку.
Мы сели за тот же столик. Портвейна не было. Пришлось взять шесть бутылок сухого и прошлогодних цыплят табака с салатом из незрелых и светлых, как наши лица, помидоров. Лобио кончилось. Начиналась разруха. Страна упадала в кризис. А мы пировали. Потому что были молоды и любознательны, потому что будущее все еще манило нас определенностью и честным научным трудом на благо родины. Я только что перешел на второй курс и мы подняли тост за нашу будущую совместную учебу, ибо с этого годы мы с Максом стали сокурсниками. Ненадолго. В конце года меня выгнали из института за прогулы, а Макс, по той же причине, был вынужден окончательно распрощаться с мечтою стать самым молодым академиком страны. К тому же армия истерично воззвала к его патриотизму и настоятельно требовала исполнения священного долга и почетной обязанности…
Третий и последний раз мы отмечали день знаний спустя два года. Это был самый роскошный праздник из всех. Макс поступил в архитектурный, а я восстановился в своем институте. Лето мы провели, замазывая липкой дрянью швы между панелями многоэтажек, качаясь в специальной сбруе над головами пенсионеров, сидящих на лавочках перед подъездами. Деньги жгли нам карманы. Кажется, жизнь опять налаживалась. Дабы не искушать судьбу, мы благоразумно выбрали другое место для пиршества по случаю всенародного праздника знаний. Мы надели костюмы, сохранившиеся с выпускного дня, расположились в светло-бежевом кафе «Ивушка» на Калининском, рядом с «Домом Книги» и заказали коньяк. Где-то в зелено-бордовом баре под нами глухонемая мафия уличных торговцев книгами в жуткой тишине яростно делила торговые места и дневные барыши. Глухие звуки зуботычин и опрокидывающихся стульев почти не мешали нам прислушиваться к нежному баритону лабуха-джазмена, пальцы которого лениво пересчитывали ровные белые зубы рояля, ласково прикасаясь к кариозным диезам. Мы делились надеждами под Sunny Side of The Street так наивно и безгрешно, словно сами сидели на солнечной стороне улицы нашей жизни. И, казалось, ни один глухонемой мафиози из нижнего мира никогда не испортит нам дивный вкус поддельного французского коньяка, которым мы запивали жареную свинину с картофелем фри.
Люди были прекраснодушны и добры. Демократия торжествовала. В сумке у Макса позвякивали рюмки, которые мы сперли на память о лучшем дне знаний в нашей жизни. Мы шли по по Калининскому проспекту, которому еще только предстояло стать Новым Арбатом и не знали о том, что изящный, артистичный Макс никогда не украсит город своими домами, а превратится через десять лет в полного, одышливого директора какой-то компьютерной конторы. Да и мне, вместо того, чтобы запускать к звездам космические корабли придется писать брошюры, восхваляющие мнимые достоинства гигиенических салфеток, собачьего корма или депутатов. Мы шли по ночной Москве и упивались роскошью своего неведения, надеждами и остатками паленого коньяка. И если бы нам попался навстречу мудрый даос, гонитель лис и толкователь судеб, мы бы наваляли ему по шее от души, дабы не лишиться той роскоши незнания своего пути, которая и по сей день дарит нам — всем нам — надежду и интерес к жизни. Тем самым выгодно отличая нас, глуповатых и несуразных смертных от всезнающих карликов-нибелунгов или прекрасных, атлетически сложенных богов-олимпийцев…
Собачий сын.
Не так давно на Алтае поймали ребенка, вскормленного собакой. Жил собачий сын где-то в тайге, бегал на четвереньках, гонял блох, пил неочищенную воду из луж, ел, когда был голоден, спал, когда чувствовал усталость. Мать-собака научила его всему, что знала о жизни. Он знал свой лес, знал когда лоси приходят на водопой, знал лечебные травки, помогающие от змеиных укусов, знал как уберечься от холода, когда все кругом становится белым, куда прятаться от медведя-шатуна и что делать, если внезапно слышишь над собой, как рысь, готовясь к прыжку, царапает когтями древесную кору. Конечно, его обоняние уступало собачьему, да и на четвереньках он передвигался не так сноровисто, зато у него был хитрый, изворотливый человеческий ум. Вероятно, со временем из него получился бы неплохой пес. Он знал ровно столько, сколько нужно знать, чтобы жить. Его знание мира было бы полным и всеобъемлющим, как знание любого дикого зверя, если бы он не владел роскошью, отличающей человека от дикого зверя. Было нечто, чего этот странный щенок не знал.
Он не знал людей. Такого наши соплеменники не прощают. Неизвестно, что они сделали с его матерью-собакой, но когда малыша привезли в детский дом, он не мог говорить, рычал по-собачьи и бросался на людей. Однако, через месяц он уже ел человеческую еду ложкой и вилкой, и знал несколько команд, или, если угодно, понимал несколько слов. Блудный сын вернулся в родное племя.
Теперь, чтобы выжить среди себе подобных, ему предстоит научиться многим необходимым в обществе людей умениям. Пользоваться туалетной бумагой, ябедничать на одноклассников учителю, а не самостоятельно выгрызать им горло, спать на простынях в душной комнате и носить неудобную одежду. Со временем он узнает что такое гарри поттер, частная собственнность, обмен валюты, борьба с контрафактной продукцией и противозачаточные средства, если, конечно, раньше не сбежит от всего этого к собачьей матери обратно в лес, в поисках утраченной роскоши незнания людей. Этих странных, противоречивых созданий, которые сначала бросают своих детенышей в лесу, а потом всеми силами стараются заставить их забыть все, чему научила тайга…
Наука.
До 2000 года человечество ничего не знало о феномене левитации лягушки в магнитном поле. Столетия упорной работы научной мысли и поражение Советского Союза в холодной войне (и связанный с этим исход советских ученых на запад), создали необходимые условия для достоверной фиксации удивительного явления, о котором идет речь.
Некий российский ученый по имени Гейм, исследователь сверхпроводимости, волею судеб заброшенный в загнивающую бельгийскую ли, голландскую ли лабораторию после многолетних скитаний по малоизвестным университетам мира, занялся экспериментами в самой что ни на есть роскошной области незнания: незнания человеком самого себя и своего места в природе. Надо уточнить, что в терминах научной моды эта область называется life science. Предметом ее интереса может оказаться все, что угодно: воздействие небесных тел на исход парламентских выборов, целебные свойства воды, извлеченной из-под шапки антарктического льда, благотворное влияние титана и циркония на внематочную беременность, сопоставление размера озоновых дыр с ростом продаж освежителей воздуха для туалетных кабин, сбор доказательств инопланетного происхождения Иисуса Христа, генетические модификации пасленовых и медикаментозная борьба с социальным неравенством и старостью.
Наш герой решил изучить влияние магнитных полей на лягушку. Спросите, почему именно на лягушку? Несколько лет исследований, бессонных ночей и бесконечные эксперименты показали, что куски говядины легко намагничиваются, но неустойчивы в полете, свинина по взлетно-посадочным характеристикам почти не уступает козлятине и явно превосходит суслика, голландский сыр и дохлого воробья. И только лягушка по своим ферромагнитным свойствам, с оговорками, конечно, может сравниться с человеком и заменить его в будущих опытах.
Фотография лягушки, парящей в криогенной камере над мощным магнитом обошла страницы газет и журналов, и вызвала не только оживленные дискуссии в научно-популярной прессе, но и массу предложений финансировать дальнейшие исследования левитации органической материи в магнитном поле.
Наиболее внушительное предложение поступило от богатого шотландского священнослужителя, которого более всего остального заботило общее падение нравов — характерное для нашего времени — вследствие утраты паствой веры в чудо. Этот благородный человек живо интересовался достижениями современной науки. Здраво рассудив, что без попущения божьего и лягушка над магнитом не воспарит, сей добрый пастырь нашел способ примирить науку и религию. Что плохого, если в конце воскресной проповеди святой отец вознесется над головами верующих, дабы собственным примером наставить прихожан и обратить их сердца и помыслы к истинной вере? Ибо одно, своими глазами увиденное чудо, не гораздо ли убедительнее многих суесловных томов?
Ученый внимательнейшим образом изучил предложение пастыря и нашел его в высшей степени заманчивым. И даже пообещал в течение ближайшего года предоставить математические расчеты, необходимые, чтобы изготовить установку для левитации пастыря перед прихожанами. Вся необходимая теоретическая база была уже готова, оставалось чисто техническая работа: собрать под кафедрой гигантский магнит и переоборудовать помещение церкви в вакуумную криогенную камеру.
Эксперты.
Кто в этой роскошной ситуации оказался нелепее: ученый, исследующий феномен парящей лягушки или пастырь, собирающийся левитировать во время проповеди, я не знаю. В конце концов, великого Пастера, которому мы, помимо микробиологии, обязаны бутылочным пивом, «пастеризованным» молоком и привычкой мыть руки перед едой, современники тоже считали шарлатаном. Считать виновниками болезней микроскопических, невидимых глазом живых существ — сродни феям или эльфам — казалось ученым противникам Пастера удручающим варварством и суеверием. И то, что свои открытия он сделал, наблюдая скисшее вино, прогорклое пиво и тухлый сыр, тоже, вероятно, не добавляло ему доверия коллег. Кроме того, я не знаю как и почему нам с Максом удавалось трижды отмечать день знаний в одном городе, но каждый раз в другой стране. И почему наши судьбы оказались таким странным образом кодированы этим самым чертовым днем знаний? И какой в этом смысл? И сможет ли кто-нибудь объяснить мне, зачем здорового и счастливого щенка отрывать от матери и превращать в недочеловека? Да кому ведомо, есть ли вообще связь между левитирующими лягушками, цыпленком табака, драчливыми глухонемыми торговцами, англиканским пастырем… и зачем я все это знаю и помню?!
Размышляя над этим я окончательно запутался. Самым простым и логичным выходом из тупика было узнать мнение экспертов. Но кто может стать экспертом по незнанию? Болван? Едва ли, он, как счастливый алтайский маугли, обитает в замкнутом и познаном мире. Увы, такого рода знаний у нас в избытке, они-то и завели меня в тупик. Похоже, для оценки незнания нужен знающий человек. Так уж устроена наша голова: чтобы понять как жить без колеса, нужно колесо. Вот, к примеру, инки знали колесо, делали детские игрушки на колесах, а грузы волокли на салазках или тащили на своих плечах. Почему? Может быть знание колеса было роскошью для них, а незнание колеса они считали инструментом геополитики? Скажем, телег не делали из соображений секретности, чтобы потенциальный противник никогда не узнал тайну колеса и корячился бы под тяжестью мешков с маисом, так же как и сами инки. А может быть, они были слишком серьезны, чтобы увидеть в какой-нибудь детской лошадке на колесиках будущий трамвай или боевую машину пехоты.
Как бы там ни было, первым, к кому я обратился, был Философ. Кому как не философу знать, откуда возникает знание, и где его границы? Сначала философ разругал мое «обыденное сознание» за догматизм, противоречивость и «ценностный платонизм». Я, в целом, согласился, разве что немного обиделся на «ценностный платонизм». «Твое обыденное сознание не способно провести чёткую грань между знанием и незнанием, истиной и заблуждением. Это стремится преодолеть наука. Она не способна функционировать как социальный институт, не формулируя свою приверженность регулятивной идее истинного знания, а истина переживается многими учёными как соприкосновение с идеалом прекрасного. Очевидно, незнание осознается как ступень на пути к знанию. Научная рациональность предполагает отказ от претензий на абсолютное знание, расширяет сферу научных знаний и ограничивает сферу незнания». (я понял: следующим моим экспертом по незнанию будет ученый. Вот у этого сморчка я и поинтересуюсь, что он ощущает, когда соприкасается с «идеалом прекрасного») «..знание радикально инструментализируется, оно превратилось в средство достижения экономического успеха и социального статуса. Можно утверждать, что наша культура нелояльна к игнорантам: конкуренция превращает их в банкротов и лузеров. Позволить себе роскошь незнания могут лишь те, кто живет иллюзией прочности своего социального статуса, и те, кому в силу разных обстоятельств, уже некуда стремиться» — закончил короткую лекцию философ. То есть, как я понял: это арабские нефтяные шейхи, бомжи, пенсионеры и менеджеры по маркетингу. Сука-философ, с присущей многовековой философской традиции изворотливостью, ушел от ответа…
Ученого я вызванивал неделю. Он уточнял и дополнял вопросы. Совершал дизъюнкцию и конъюнкцию, мухлевал с дивергенцией и откровенно дедуцировал направо и налево. Наконец я добился от него более-менее внятного ответа. «Научное знание – это выявленные устойчивые связи между свойствами объектов материального мира и их описание в наиболее удобном для дальнейшего, в том числе практического использования, виде. При этом, поиск способов описания определенных связей иногда приводит не только к формированию нового инструментария конкретной науки, но и к радикальному изменению представлений человечества об окружающем мире». И как же насчет соприкосновения с «идеалом прекрасного»? Тут ученый возбудился и подтвердил догадку философа собственным опытом. «Во-первых, человек практикующий в любой из областей научного знания (стало быть, в исследовании лягушачей левитации тоже, — прим. автора), получает возможность непрерывного удовлетворения естественной потребности в узнавании нового, регулярном получении эмоции новизны, поэтому у него формируется позитивное ощущение многогранности и величия мира. А во-вторых, практика научного познания позволяет человеку выйти за рамки непредсказуемого и хаотического обыденного сознания. Человек получает привлекательное и комфортное ощущение красоты и гармонии мироздания». Ученый, как и философ бежал обыденного сознания как чумы…
Поэтому третьим экспертом по незнанию стал Политолог, профессионал мистификаций обыденного сознания и мастер превращения знания в силу. Он даже не дослушал мои сумбурные вопросы, понимающе кивнул головой, и к вечеру прислал «Апологию тупости», фрагментом из которой я намерен поделиться с вами без комментариев: «Одновременно с эволюцией интеллекта осуществлялась и эволюция тупости, глупости и развитых форм высокой дебилии и олигофрении. И именно демонстрационной моделью тупости, дебилии и олигофрении являются лучшие представители человечества.
Воля и Сила не нуждаются в уме. В особенности — если Сила и Воля освящены сакральными эманациями Власти. Зачем ум Властной Силе? Ум — прерогатива всякой мелочи. А отсутствие его — право и привилегия Силы. Чем выше по лестнице Власти — тем меньше ума. Интеллект вредит Власти, делает ее мелкотравчатой и слишком понятной для нижестоящих. Ни одно движение Власти, включая её прямые приказы, не должно быть понятно тем, кем Власть питается, и кого она упорядочивает и устраивает в этой жизни сообразно убогому уму их.
Понимание этой таинственной зависимости раскрывается в процессе политических выборов. Чем меньше ума, «интеллекта» и рассудка демонстрирует нам тот или иной претендент, чем больше тупости, дебилии и олигофренических признаков он проявляет, тем более сакральной будет его Власть и тем более он пригоден к управлению стадом умных и «интеллектуальных». Слава Богу, русский народ не любит умных, и, особенно, не любит «очень умных».
Школы для умственно отсталых детей — вот то место, где сформируется истинная культурная, политическая и финансовая элита новой России. Увы, но до сих пор во власть пробивались лишь отдельные выдающиеся олигофрены и даже, к прискорбию, приобретали на этом пути вреднейшие проблески «интеллекта».
Чудовищный вред, нанесенный нашей стране политиками, культурными и промышленно-финансовыми деятелями, обладавшими «интеллектом», разумеется, скоро будет компенсирован новой плеядой абсолютно тупой элиты. Наша задача — всячески приближать это время и терпеливо объяснять всем умным их трагическую врожденную неполноценность»…
Структура незнания.
И все-таки общение с экспертами не прошло для меня даром. Я понял, что незнание устроено гораздо сложнее знания и практически не изучено людьми. Более того, в структуре незнания явно вычленяются три основных вида. Первый, это «незнание фактов». Самый простой вид незнания. По своим свойствам он практически не отличается от точного знания. Они похожи как Северный и Южный полюса. Второй вид незнания – это инструментальное «научное незнание»: область неведомого, лежащая за пределами знаний. Чем больше мы знаем, чем выше поднимаемся над незнанием, тем виднее нам его бескрайние, тучные нивы.
Третий, наиболее интересный вид незнания – «приближенное знание». Ни то, ни се. Диалектическая штука, доложу я вам. С одной стороны в нем есть преодоление наивного точного знания: нечто за пределами знания, наше желание чуда. Жизнь после жизни, удивительные совпадения, лох-несское чучело и летающие тарелки. А с другой, более понятной, оно похоже на простодушие, которого так боятся Ученый с Философом: ведь ни особенный звук скрипки Страдивари, ни смысл кредитов международного валютного фонда не объяснишь математическими расчетами.
Ясно одно, нам еще многое предстоит узнать о собственном незнании. Парадоксальным образом именно роскошное, необъятное незнание порождает в человеке «позитивное ощущение многогранности и величия мира»: ему кажется, что мир многообразен, ужасен, прекрасен, велик и убог одновременно. Ибо если наше знание инструментально и практично, то незнание наше абстрактно и всеобъемлюще. И эта единственная роскошь, которая останется у нас после того, как мы выключим электричество, забудем все, чему учились в институтах, встанем на четвереньки и завоем…
Михаил Косолапов
«Новый Очевидец», 30.08.2004
Эксперты:
В.В. Майор, доктор философии (Германия)
Ю.В. Ханин, к.ф-м.н, старший научный сотрудник ИПТМ РАН (Черноголовка)
А.А. Сучилин, к.с.н, политолог (Москва)