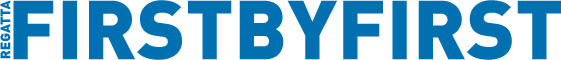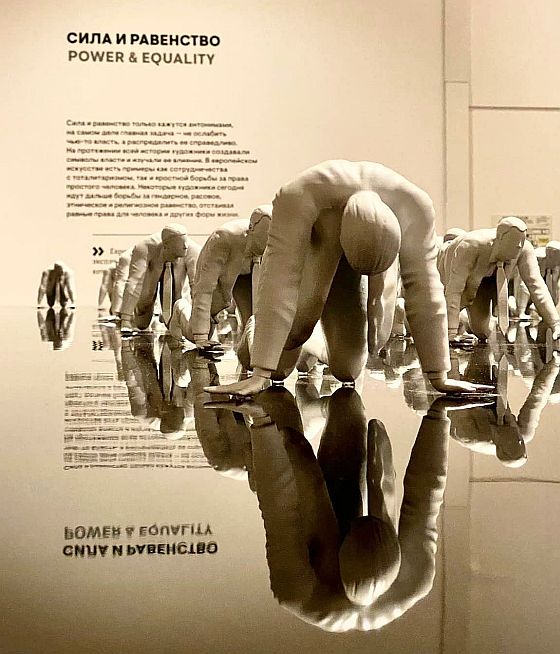В это трудно поверить, но Ельцин — поэт. Более того, Лебедь и Яндарбиев — тоже. Не в переносном или каком-либо другом смысле, а в самом что ни на есть прямом. Стихи — длинные, короткие, рифмованные, белые, с метафорами и цезурой, лирические, гражданственные, умные и бестолковые, хайку и галлиямбы — транспонируются на бумагу непосредственно из больших сердец наших политических лидеров. Это невероятно. Зачем?! Что заставляет богов и полубогов-олимпийцев браться за перо, мучительно подыскивая рифму к слову «россиянин»? Насколько «отчетливо безотчетно» это «движение души»? Попробуем разобраться.
Предвыборная программа как текст, написанный и высказанный на «языке власти», понимается, прочитывается посредством системы социальных, культурных, правовых и бытовых кодов (доксы). Политикой мы назовем ожидаемый случай одинаковой интерпретации текста всеми читателями. Политик, как персонификация собственной программы, пользуясь идеологическими кодами и подчиняясь им, в условиях устоявшейся и структурированной доксы прочитывается коллективно и обезличенно (в идеальном случае).
В противоположность чему Поэт подразумевает индивидуальность прочтения. Поэт отказывается от предлагаемого доксой декодера, обращаясь к каждому своему потребителю (читателю) напрямую, лично. Поэт уникален и единичен. Иначе Политик — он безлик и множественен. Политика тоже «понимают», не могут не понимать, но только как носителя вполне определенных общественных ценностей, которые он представляет.
Возьмем американского президента Клинтона. Пишет ли он стихи? Скорее всего нет. Впрочем, это его личное дело. На Клинтона «работает» вся многолетняя история и идеология партии, зарегистрированным торговым знаком которой он на сегодняшний день состоит. На вопрос, курил ли он марихуану во время предвыборного марафона, Клинтон смело может отвечать: «I smoked, but I didn’t inhale». Публика его поймет, лукавого Клинтона, посмеется вместе с ним и простит, даже если он и затягивался, в конце концов. Ну, может быть, действительно, и затянулся разок, но неглубоко. Ну, глубоко, конечно, но не очень.
Кто может задать такой вопрос генералу Лебедю? В контексте нашей действительности он просто не может быть задан. Да плевать, что он там курил! Нет ни партии, ни истории партии, ни истинного понимания, чего он хочет и откуда вылез. Лебедь гол как сокол.
Так что наш политик обязан творить, раз желает понимания. Творить предвыборную программу (похожую на все остальные) и стихи. Программу, дабы приобщиться к коллективной нравственности и языку. А стихи, дабы достучаться до сердец «россиян» и определить тем самым их выбор.
Поэт может и не писать, если, например, вдохновения нет. Наш политик — не может, если он настоящий политик, выразитель и жертва «культурного бессознательного». Для понимания он должен обязательно задействовать классический ключ к сердцам людей, а именно — «глагол». И жечь их, жечь этим самым глаголом…
Скажем, Анатолий Осенев (Лукьянов) может сколько угодно считать себя поэтом «от Бога», не осознавая вполне подчиненной роли своих поэтических занятий: он хочет быть понятым — и не понят, хочет быть раскодированным и публичным, но остается в плену пунктов политических программ. Стихи его, как бутылка с необитаемого острова с запиской: спасите меня, поймите меня…
Когда не видать просвета
от сгрудившихся проблем,
спасите меня, поэты,
чтоб не был я глух и нем.
Придите, Булат и Белла,
И Танечка, и Андрей…
…Спасите меня, поэты,
для новых упорных драк.
(апрель, 1988)
Или вот еще более показательный пример:
Пусть искренность живет под кровлей вечных слов,
Пусть то, что нам дано, условности не губят!
Как выпускает птах из клетки птицелов,
Так душу вам раскрыть стихом хочу я, люди!
(октябрь, 1986)
Анатолий Осенев (Лукьянов) среди политиков-литераторов наиболее простодушен в своих произведениях (если не сказать примитивен). Возможно, именно его по-человечески обаятельная наивность, проявляющаяся в стихах, и помешала (и помешает) ему подняться на вершину политического успеха.
Для Политика в России (и не только в России: вспомним обилие драматургов-диссидентов среди политиков Восточной Европы, чеченских поэтов-партизан-президентов и т.д.) возможность быть понятым однозначно, быть раскодированным отдельным индивидом, точка унификации и снятия социального кода только одна — Поэзия. Причем чем выше амбиции Политика, тем более явственна необходимость его поэтических упражнений. Исключение здесь, пожалуй, Зюганов и прочие разновидности российских коммунистов и патриотов.
Кто мог бы заподозрить в Ельцине тонкого знатока древней корейской и китайской поэзии? Однако судите сами:
Хижину снег завалил по самую крышу.
Воет пурга. В очаге потрескивают поленья.
Пар над похлебкой. Я вспоминаю все реже:
кажется, сливы цветок искал я в этой долине.
Эта корейская стилизация (по мотивам Ли Сэка), написанная опальным реформатором во времена конфликта с Политбюро (помните: «Борис, ты не прав!»?), в минуту слабости, характеризует его гораздо лучше, чем помпезные шоу грошовых звезд российской эстрады под почти неприличным по звучанию лозунгом «Голо-суй!». Несколько иначе — как вдумчивого и внимательного читателя — приоткрывает Ельцина следующее «корейское» четверостишие:
Умную книгу прочел, автор которой толково
сотню листов сочинил, мне, дураку, объясняя
как ничего он не понял. Сочувствую. Мне бы хотелось
глупую книгу прочесть, которая все объяснила б.
Велик соблазн человека, всю жизнь прожившего под давлением одной Книги (в самом широком смысле), разочаровавшись, искать другую, равновеликую. Нужно известное мужество признать такой очевидный, казалось бы, факт, что «умная» книга говорит скорее об авторе, а «глупая» — о читателях, о людях. А вот отрывок из стихотворения «Ветка персика», которое явно отсылает к «Персиковому источнику» Тао Юаньмина:
…Лодочник, путь наш по черной воде лежит,
жаба и яшмовый заяц увидят нас.
Вверх по реке, у истоков, пещера есть —
счастье для всех там, сказал мне старик из Лу…
Очень естественно для Бориса Ельцина упомянуть «старика из Лу» — Конфуция, учеником которого он может считать себя с полным на то основанием, поскольку понять предвыборную программу Ельцина и его политические заявления, не зная основ конфуцианской этики и морали, невозможно. Если прочитывать «Ветку персика» как политическую программу Ельцина, можно в какой-то мере разглядеть в ней основы его метода управления страной: опора на ближайшего советника (обращение к Лодочнику), надежда на поддержку извне (жаба и заяц увидят), сознание цели (пещера есть), сознание трудностей ее достижения (вверх по реке — против течения) и конфуцианская этика (сказал старик из Лу).
Попробуйте для сравнения прочесть таким же образом стихотворение десятилетней давности Григория Явлинского (к сожалению, это единственное его произведение, попавшее нам в руки):
Нам нельзя ни на миг остановиться,
Где бы ни были — посреди дороги.
И не прихоть причина наших странствий:
Просто мы от покоя погибаем,
Обращаемся глиной или камнем,
В неизменную форму застывая.
Поневоле предметов очертанья
И людей сообщают нам обличье.
Во дворцах замираем утонченной,
Экзотичною лаковой безделкой,
А в простых, незатейливых жилищах
Образуемся куклою тряпичной.
Путник, если ты злого не желаешь,
Обойди это место стороною,
Как закружимся мы в безмолвном танце,
Вечном танце над полыми холмами…
Здесь явно имелись в виду сиды, эльфы или банши — нечто эфемерное. Программа «500 дней» была еще далеко в будущем, но по этим строкам, будь они вовремя опубликованы, уже можно было бы судить об определенном романтизме и склонности к мистицизму их автора.
И у Анатолия Лукьянова есть строки о Китае, написанные примерно в одни годы с приведенными выше ельцинскими, но насколько они беспомощны и поверхностны!
…На грудь Великого Китая
Легла старинная стена.
Гудели башни боевые,
Сторожевые жгли огни,
Чтоб не могли пройти чужие,
Чтоб не смогли уйти свои…
(сентябрь-ноябрь, 1989)
Старинная, да. Легла. Иные стены, как люди, рождаются сразу старцами. Да еще так, что не пройти и не уйти… Да и бог с ним, с поэтом-заговорщиком Лукяновым! Надоел.
Ельцин не был бы Ельциным, не будь он изменчивей Протея. И в политике, и в поэзии. Только мы признали его за знатока и эпигона древних восточно-азиатских поэтов и мыслителей, как вдруг обнаружилось сделанное им во время недавней тяжелой болезни переложение древнеегипетской «Песни арфиста». Нет возможности привести ее целиком:
…живи настоящим, на голову мирру
возлей, и да будет твое одеянье
пурпурным виссоном, и дивною мазью
богов умащай свое тело, будь весел,
не дай опечалиться духу и следуй
влечению сердца к прижизненным благам.
О смерти не думай, пока не наступит
день скорби: не ведает плача и муки
тот, сердце в котором не бьется,
а слезы, поверь, никого не избавят от гроба…
И, не поддаваясь унынию, помни:
в такую дорогу свое достоянье не взять.
И поэтому, празднуя, ведай:
никто из ушедших еще не вернулся…
Похоронной «Песне арфиста» больше 4000 лет. Возможно в интересе поэта-президента к столь древним и значимым для цивилизации памятникам культуры и заключается секрет его политического успеха.
…Стихи мы пишем, образы сгустив,
Постичь пытаясь тайну бытия,
Чутьем тропу в пространстве ощутив
И чудом избегая забытья, — как считает Зелимхан Яндарбиев.
Но вот что именно побудило генерала Лебедя обратиться к классическим японским трехстишиям хайку и увлечься поэтикой танка (вака) — остается только гадать. Есть различные версии (например, занятия каратэ и самурайский кодекс «он и гири») — все это будут лишь предположения. Просто в какой-то определенный момент своей жизни рядовой курсант Рязанского десантного училища Саша Лебедь написал хайку. Инициация состоялась. Это был всего лишь первый опыт и классики японской поэзии, ознакомившись с ним, возможно, покинули бы нас на несколько минут позднее (как известно, смех продлевает жизнь). Но не будем слишком строги к автору.
Как праздник 23 февраля
Листочки первые
Березки молодой…
В юношеском трехстишии уже содержатся ключи к пониманию философии и мировозрения будущего боевого генерала. Здесь имплицитно заложены все категории классической эстетики. Такие, как «печальное очарование всего сущего», «грустное просветление отрешенности», «печаль поэтического одиночества». Не следует корить автора за несоблюдение классического сочетания 5-7-5. Каким только размером ни пользовались переводчики для воссоздания своеобразной ритмики и мелодики японского стиха…
Все зависит порой
От случайности в мире тревожном —
Жизнь моя и твоя,
Да и весь этот рай под Луной, — как сказал по этому случаю все тот же Зелимхан Яндарбиев.
Поразительно, как органично вписана А. Лебедем поэтика ваку в абсолютно чуждый контекст российской действительности. Мы не найдем здесь «куртуазного жапанизма» (от Japan), обычно присущего опытам в этой области, манипулятивно пользующего экзотику непривычных образов и эстетику непрожитых ситуаций.
В голом поле
на потресканной земле
я, не отирая влажных глаз,
с малышом-бурундучком
играю.
По времени эта танка относится к событиям в Приднестровье. И вот еще одна, того же периода:
Как поверить мне в то,
что изменчивей всех одуванчик?
Даже ветра не нужно,
чтоб сердце иначе забилось…
Декодировать феномен генерала Лебедя, не имея этих документальных свидетельств, совершенно нереально:
Мне о многом напомнил
Этот камень,
застрявший в подошве…
В рамках одной статьи нельзя проанализировать феномен «поэзии власти». Хотя в пользу нашей гипотезы о невозможности политической карьеры в России без сопутствующих поэтических занятий говорят и неожиданно обнаружившиеся (в ходе работы над этой статьей) стихотворные посвящения своей тогдашней возлюбленной молодого студента университета Миши Горбачева, в прошлом президента, а ныне прозаика. К сожалению, адресат отказался предоставить письма, сославшись на их интимный характер. Мы не ставили себе задачу проследить поэтические достоинства и темы, затрагиваемые этой разновидностью лирики. Можно наперед сказать, что «поэзия власти» по определению вторична, что не мешает ей быть подчас достаточно профессиональной и искренней. Опять поэт Осенев (Лукьянов):
…Он весь, мой край, — большая песня,
Созвучье самых светлых лир,
Ее сложили Блок и Леся,
Купала, Райнис и Сабир,
Махтумкули и Церетели,
И Туманян, и Токогул,
Абай и Саломея Нерис,
Турсун-заде и Юхан Смуул…
(декабрь, 1982)
или:
…Век гонок, секса и абсента,
Лабораторий и казарм.
Век, грибовидным монументом
Явивший гений и маразм…
(январь-апрель, 1963)
Пусть даже в 1963 году подобные стихи нельзя было назвать новаторскими (несмотря на вольное обращение с рифмой), в искренности Анатолию Осеневу (Лукьянову) не откажешь. Увы, одной искренности мало в век, столь живо описанный Осеневым, поэтому иные, более вменяемые поэты становятся президентами и претендентами на президентство…
Мы лишь хотели указать на существование литературно-политического феномена, с неизбежностью возникающего в период «перемены времен», и наметить способы, с помощью которых данный феномен мог бы быть институциализирован. Возможно, издание специального общественного литературного журнала, печатающего опусы первых лиц государства (или претендентов на это звание), стало бы простым решением проблемы выбора между ними. В конце концов, печатание их стихотворений во время так называемой «предвыборной гонки» не более абсурдно, чем бесконечные повторения одинаковых по сути предвыборных и иных политических программ.
Каждый раз, если вдруг выдавалась
Хоть минута свободная, он
Рисовал неизменно — цветы,
Те цветы, что растут на земле,
И такие, каких не бывало,
Да и быть никогда не могло…
Все цветы его были похожи
На глаза и ладони детей, — как наблюдательный Зелимхан Яндарбиев заметил по этому случаю.
Михаил Косолапов,
Галина Глазко
«пушкин» №1 (Русский журнал)
сентябрь 1997
http://old.russ.ru/journal/travmp/97-09-16/kosol.htm